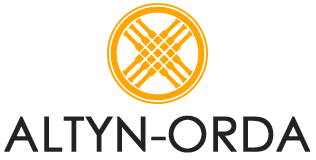Москва обвиняет Астану в реэкспорте санкционных товаров, но за спором о бельгийских грушах скрывается более глубокий конфликт интересов — между логикой экономического прагматизма и политикой санкционного изоляционизма, передает Altyn-orda.kz
Фото Depositphotos.com
Повод — груши, причина — геополитика
Когда Россельхознадзор в середине октября публично обвинил Казахстан в реэкспорте подсанкционных грузов, в частности бельгийских груш, новость показалась многим обывателям незначительной. Однако для тех, кто следит за динамикой отношений между Москвой и её соседями по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), этот эпизод стал симптомом куда более широкого процесса: эрозии доверия внутри интеграционного блока, созданного когда-то для облегчения торговли, но всё чаще превращающегося в площадку для контроля и подозрений.
Согласно данным российской системы «Аргус-Фито», объёмы поставок свежих груш, проходящих транзитом через Россию, в 2025 году выросли в четыре раза — до 21,9 тыс. тонн против 5,2 тыс. тонн годом ранее. Формально — казахстанские поставки, фактически — продукция стран Евросоюза, запрещённая к ввозу в Россию с 2014 года. Россельхознадзор утверждает, что несмотря на внедрение электронных пломб и ужесточение фитосанитарного контроля, на рынке по-прежнему циркулируют «серые» схемы, в которых Казахстан стал ключевым транзитным звеном.
На первый взгляд, речь идёт о нарушении санитарных и фитосанитарных норм. Но за этим техническим спором стоят два противоположных взгляда на то, как страны ЕАЭС должны существовать в эпоху санкций и растущей геоэкономической изоляции России.
Казахстан между Россией и Западом
С момента начала конфронтации России с Западом, Казахстан оказался в двусмысленном положении. С одной стороны — тесные экономические связи, общие границы, энергетическая и транспортная взаимозависимость с Россией. С другой — ориентация на глобальные рынки, западные инвестиции, а также собственное стремление позиционировать себя как нейтральный и открытый торговый узел между Востоком и Западом.
После 2022 года объём торговли Казахстана с Россией резко вырос: по официальным данным, импорт российских товаров в РК увеличился более чем на 20%, а экспорт из Казахстана в Россию — почти на треть. Однако значительная часть этого роста приходится не на прямые казахстанские товары, а на реэкспорт — продукцию из третьих стран, которая через Казахстан находит путь в российскую экономику, отрезанную от западных поставщиков.
Для России это, с одной стороны, спасательный клапан, позволяющий компенсировать дефицит импортных компонентов и продовольствия. С другой — источник раздражения: Москва подозревает, что часть партнёров в ЕАЭС пользуются санкционной ситуацией не столько ради солидарности, сколько ради прибыли.
Серая логистика: от бытовой торговли до макроэкономики
Санкционная экономика России породила целую отрасль параллельного импорта. Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Армения, Киргизия и Казахстан — все эти страны стали своеобразными «перевалочными пунктами» для товаров, официально не предназначенных для российского рынка.
Логистика построена сложно: товар из Европы поступает в Казахстан или Армению как импорт, после чего «перепаковывается» и документально становится местной продукцией. В некоторых случаях, как в истории с бельгийскими грушами, это достигается просто — изменением этикетки и страны происхождения в сертификате.
Так формируется экономика двойной лояльности: государства формально соблюдают международные санкции (не поставляют напрямую в Россию), но де-факто обеспечивают обход ограничений. Эта практика не нова — она использовалась в Иране, Венесуэле, Кубе. Но в евразийском контексте она приобретает особое политическое измерение, ведь речь идёт не о странах-конкурентах, а о членах одного экономического союза.
ЕАЭС под давлением реальности
Созданный в 2015 году, Евразийский экономический союз задумывался как пространство свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Однако в условиях санкционного противостояния эти принципы оказываются под вопросом.
Российские ведомства, включая Россельхознадзор и ФТС, всё чаще обвиняют партнёров по ЕАЭС в нарушениях: неполной отчётности, подмене сертификатов, несоблюдении правил фитоконтроля. Казахстан, в свою очередь, апеллирует к букве соглашений, указывая, что в рамках союза его предприятия имеют право на самостоятельное ведение внешнеэкономической деятельности и оформление документов происхождения.
Возникает парадокс: интеграционный союз, призванный упростить торговлю, превращается в арену регуляторных споров. Россия требует большей прозрачности и контроля, но её партнёры воспринимают эти требования как вмешательство в суверенные дела.
Почему Россия нервничает
За последними заявлениями Россельхознадзора стоит не столько забота о фитосанитарной безопасности, сколько страх перед потерей управляемости санкционной системы.
Российские власти на протяжении последних лет выстраивали модель «санкционной автаркии» — идею, что страна способна не только выдержать международные ограничения, но и извлечь из них выгоду, развивая внутреннее производство. Однако на практике эта модель опирается на серые каналы импорта, а значит — на внешних посредников.
Если Казахстан и другие партнёры начнут действовать слишком автономно, Москва рискует потерять контроль над ключевыми потоками товаров и доходов. В этом смысле история с грушами — сигнал, что «санкционная вертикаль» России даёт сбой.
Казахстанская стратегия: прагматизм вместо идеологии
Казахстан же действует в рамках иной логики — не санкционной, а торгово-рыночной. Для Астаны задача не в том, чтобы помогать или мешать Москве, а в том, чтобы извлечь экономическую выгоду из новой геополитической реальности.
С 2022 года Казахстан резко увеличил объёмы логистических услуг, таможенных сборов и экспортных операций. Реэкспорт, в том числе через частные компании, стал источником валютных поступлений и стимулом для развития транспортной инфраструктуры.
Официально власти РК заявляют, что не допускают обхода санкций, и в большинстве случаев действительно действуют в рамках формального права. Но в экономике, где частный сектор гибок, а государственный контроль ограничен, различие между «законным транзитом» и «серым экспортом» становится всё менее различимым.
Западный фактор: давление без разрыва
США и Европейский союз с начала 2023 года усилили давление на Казахстан и другие постсоветские страны, требуя не допускать реэкспорт санкционных товаров в Россию. В Астане к этим требованиям относятся с осторожностью: прямое присоединение к санкциям означало бы политическую конфронтацию с Москвой, а отказ — риск вторичных санкций со стороны Запада.
Пока Казахстан выбирает компромиссную линию: формально декларирует готовность сотрудничать с западными регуляторами, но избегает резких шагов. Такая «двойная дипломатия» позволяет Астане балансировать, но вызывает раздражение в Москве, где подобное поведение воспринимают как политическую неблагонадёжность.
Экономика против политики
В долгосрочной перспективе этот спор отражает глубинное противоречие между экономической рациональностью и политической лояльностью внутри постсоветского пространства. Россия строит свою внешнеэкономическую стратегию вокруг идеи политической солидарности: союзники должны разделять не только рынок, но и санкционные риски. Казахстан же — и всё больше других партнёров ЕАЭС — рассматривает интеграцию прежде всего как инструмент экономической выгоды, а не политической зависимости.
Такое расхождение подходов превращает даже локальные конфликты — вроде спора о происхождении груш — в индикатор тектонических сдвигов. Союз, который когда-то задумывался как альтернатива Европейскому союзу, всё больше напоминает бюрократическую структуру, скреплённую не идеологией, а взаимными претензиями.
Что дальше
Вероятнее всего, ситуация с реэкспортом не приведёт к открытому конфликту. Казахстан не заинтересован в обострении — торговля с Россией по-прежнему остаётся важной статьёй дохода, а Москва в свою очередь не может позволить себе потерять транзитного партнёра, через которого проходит значительная часть её внешнеэкономических потоков.
Однако тенденция к «размыванию» санкционного контроля продолжится. Чем дольше сохраняется санкционная изоляция, тем шире становится сеть неофициальных каналов, и тем труднее России поддерживать дисциплину внутри собственных союзов.
История о бельгийских грушах, пересекших границу через Казахстан, — это не просто эпизод торгового нарушения. Это лакмус, показывающий пределы санкционной экономики и внутренних противоречий Евразийского союза.
Россия требует политической лояльности, Казахстан выбирает экономический прагматизм. Между ними — пространство «серой зоны», где логистика, торговля и геополитика переплетаются в узел, который всё труднее развязать.
Возможно, именно этот узел — а не груши и фитосертификаты — станет главным испытанием для евразийской интеграции в ближайшие годы.