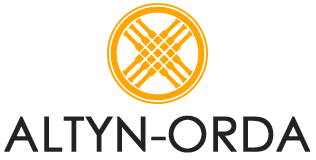Сухой остаток — меньше 1% бюджета. Это уже не звоночек, это колокол, считает Altyn-orda.kz
Российская система регионального управления столкнулась с новым, но ожидаемым вызовом. По данным на осень 2025 года, шесть регионов России — Архангельская, Волгоградская, Белгородская, Ульяновская, Иркутская и Мурманская области — практически исчерпали свои финансовые резервы. Остатки на счетах этих субъектов Федерации составляют менее одного процента от их годовых бюджетов. Иначе говоря, они могут поддерживать текущие расходы всего лишь несколько дней — и это в ситуации, когда до окончания финансового года ещё остаётся значительное время.
Такой обвал ликвидности — это не просто результат неэффективного управления. Это — симптом системного разложения экономической модели, усугублённого внешнеполитическими авантюрами. Война, санкции, мобилизационная экономика, централизованный перераспределительный механизм и отсутствие стимулов к развитию — всё это медленно, но последовательно выедает финансовый и административный ресурс страны.
Время платить по счетам
Бюджеты российских регионов традиционно страдают от ограниченной самостоятельности. Налоговые доходы скапливаются в федеральном центре, а обратно возвращаются в виде трансфертов, субсидий и субвенций. В условиях кризиса это оборачивается финансовой ловушкой: регионы не могут наращивать собственные доходы, но вынуждены обеспечивать растущие федеральные обязательства.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году нагрузка на региональные бюджеты резко выросла. Во-первых, увеличились расходы на «патриотическое» воспитание, мобилизационную инфраструктуру, поддержку семей военнослужащих и других бенефициаров военной машины. Во-вторых, резко сократился объём доступных инвестиций и налогов от малого и среднего бизнеса, особенно в регионах, ориентированных на внешнюю торговлю. В-третьих, рост цен, снижение логистической доступности и общее падение деловой активности привели к сокращению неналоговых поступлений.
Сегодня региональные дефициты растут даже там, где ещё недавно сохранялся баланс. Например, Белгородская область, оказавшаяся вблизи фронтовой зоны, не только несёт прямые издержки, но и утратила значительную часть экономической активности. Архангельская и Иркутская — традиционно дотационные, зависят от центра. Волгоградская и Ульяновская — промышленные, но с изношенной инфраструктурой и убыточными активами. Мурманская — регион с крайне высокой стоимостью содержания, в условиях резкого удорожания логистики и северных надбавок становится хронически дефицитным.
Централизованный тупик
Парадокс в том, что центральная власть продолжает демонстрировать показную устойчивость. Макроэкономические отчёты подчёркивают профицит федерального бюджета, рост экспорта и относительную стабильность рубля. Но под этим фасадом прячется глубокий структурный дисбаланс: централизация доходов и децентрализация расходов.
Региональные власти вынуждены выполнять всё больше обязательств: зарплаты, строительство, социальные выплаты, закупки, обслуживание долгов. При этом возможности наращивания доходов минимальны: налоговая база сокращается, экономика деградирует, предприниматели либо уходят в тень, либо сворачивают деятельность.
Модель, в которой Москва перераспределяет деньги по собственному усмотрению, работала в условиях нефтяного изобилия и стабильного внешнего спроса. Сейчас, когда санкции ограничивают экспорт, а мировые рынки начинают отказываться от российской сырьевой зависимости, денежный поток иссякает. Центру приходится выбирать: либо спасать регионы, либо финансировать войну.
Пока выбор очевиден — в пользу фронта.
Финансовый инфаркт
Последствия уже ощутимы. При остатках менее одного процента от годового бюджета, регион не может выполнять даже базовые функции: выплата зарплат бюджетникам, ремонт дорог, содержание коммунальной инфраструктуры, закупки в больницы и школы. В такой ситуации любая внеплановая нагрузка — от стихийного бедствия до социальных протестов — способна стать катастрофической.
На практике это означает:
-
заморозку всех инвестиций в инфраструктуру;
-
рост задолженности по зарплатам и контрактам;
-
сокращение штатов и закрытие социальных учреждений;
-
повышение налогов и поборов на местах;
-
увеличение долговой нагрузки на фоне сокращения кредитоспособности.
Регионы превращаются из субъектов в просителей, потерявших любую экономическую автономию.
Линия разлома
Если подобная динамика сохранится, страна неминуемо столкнётся с вопросом о политической устойчивости. Речь идёт не столько о прямом распаде, сколько о постепенной эрозии управляемости. Центр теряет возможность оперативно реагировать на запросы регионов. Регионы — способность поддерживать лояльность населения.
Риски здесь многоуровневые:
-
социальный — обострение протестных настроений на фоне падения уровня жизни;
-
административный — разрушение вертикали власти, когда местные власти начинают саботировать федеральные приказы из‑за отсутствия ресурсов;
-
экономический — каскадное банкротство подрядчиков, предприятий, утечка капитала и людей;
-
политический — рост центробежных настроений, особенно в национальных республиках и богатых регионах, которым надоело кормить «систему».
Финансовая дестабилизация шести регионов — это только начало. За ними, с высокой вероятностью, последуют другие. Некоторые уже живут в режиме отсрочек и кредитных векселей. Другие выживают только благодаря субсидиям Москвы, которые сокращаются.
Война пожирает Россию
Сегодня очевидно: война стала не просто военным конфликтом, а механизмом внутренней деструкции. Государственный аппарат функционирует в режиме «военного коммунизма»: всё для фронта, всё ради победы — и ничего для устойчивого будущего.
Затраты на войну многократно превышают возможную отдачу. Даже если бы Россия достигла заявленных целей, экономический ущерб уже превосходит любые потенциальные выгоды. Реальный же сценарий — затяжной конфликт, международная изоляция, постоянное напряжение на границах, мобилизация и репрессии — ставит крест на перспективах развития страны как целостной системы.
Что дальше?
Россия находится в точке bifurcation — развилки. Либо происходит пересмотр приоритетов, отказ от внешнеполитических авантюр, переосмысление модели управления и укрепление региональных экономик, либо нарастает процесс административного разложения, где центру остаётся только держать фасад «единства» на фоне разваливающихся по швам бюджетов.
Пока что тенденция очевидна: война выжирает ресурсы быстрее, чем страна способна их восстанавливать. И когда заканчиваются деньги — заканчивается и контроль.
Бюджетный крах шести регионов — это не случайность. Это симптом. Россия начинает терять управляемость. А это, как показывает история, — первый шаг к распаду.