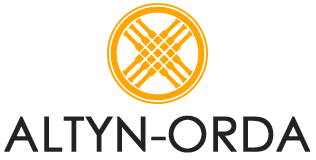- На сайте «Абай КЗ» опубликовано интервью нашего журналиста Дуйсенали Алимакына с британским историком Аланом Томасом под названием «Алан Томас: Қазақ даласындағы ашаршылық ағылшынтілді әлемде жеткілікті бағаланбай отыр» (https://abai.kz/post/197241).
- Я (Керимсал Жубатканов) сделал перевод с казахского на русский. Считаю, что он будет интересен всем тем, кто интересуется нашей отечественной историей, особенно, периода сталинской насильственной коллективизации и вызванного ею Голодомора в казахских степях в конце 1920-х – начале 1930-х годов.
Доктор Алан Томас — профессор Стаффордширского университета. Он один из немногих —иностранных ученых, написавших книгу о кочевниках и советской власти. Его книга «Кочевники и Советская власть» посвящена взаимоотношениям советского правительства и кочевых народов Средней Азии в 1920-х и начале 1930-х годов. Мы с интересом прочитали это произведение автора и организовали интервью для казахстанских читателей.
– Изучение истории – это занятие, требующее упорства. Почему вас интересует эта тема? Читали ли вы труды казахстанских ученых и историков при написании этой книги? Было ли это полезно?
– Впервые о кочевниках в СССР я прочитал в книге Терри Мартина «Империя позитивной дискриминации». Мне было интересно, как коммунисты управляли кочевниками в прошлом. В то же время меня заинтересовала взаимосвязь власти и пространства. Главной характеристикой кочевников было то, что они постоянно находились в движении, и авторитарное государство всегда хотело знать, где находятся люди и куда они направляются. Это приводило к конфликтам. Я попытался проанализировать эти противоречия в своей книге. Я читал труды казахских историков, и они были для меня очень полезны.
Особенно важны произведения, написанные в эпоху гласности и после нее. К сожалению, многие из них не переведены на английский язык, и я сожалею, что не могу показать их своим студентам.
– Вы написали в своей книге, что «номадизм стал очевиден большевикам прежде всего в период модернизации». Как это надо понимать?
– В настоящее время понятие «модернизация» является предметом многочисленных дискуссий в англоязычной науке. Этот термин используется для описания процессов, связанных с бюрократией и производительностью, но он больше не имеет того положительного оттенка, как раньше. Возникает также вопрос о том, был ли сам СССР модернистским государством или, наоборот, традиционным обществом. У меня нет четкой позиции по этому вопросу. Но большевики свято верили в модернизацию, а кочевники, по их мнению, были совершенно непригодны для «современной жизни». Поэтому они всегда рассматривали кочевников как проблему, которую необходимо решить. Эту точку зрения разделяли не только большевики, но быстрота большевистских действий была исключительной.
– Вы сравнили роль Москвы в советской Средней Азии с ролью Лондона в Британском Содружестве. Полностью ли противоречива политика этих двух империй?
– В целом, я не думаю, что это сравнение очень полезно. СССР и Британское Содружество — это два разных мира. Я хотел бы лишь подчеркнуть одну вещь: мы понимаем деколонизацию Британской империи как немедленное достижение национальной независимости, а бывшие колонии Российской империи находились под властью России на протяжении всего XX века. Однако Лондон продолжал оказывать влияние на внутреннюю политику своих колоний даже после обретения ими независимости. Поэтому этот процесс произошел не сразу. В этом отношении Лондон, как и Москва, не собирался легко отказываться от своей власти.
– В какой степени новая экономическая политика (НЭП) затронула казахских кочевников?
– Период НЭПа характеризуется как время относительного затишья в СССР. Но этот период был трудным и для Казахстана. Во время и после гражданской войны случился голод, руководство советского Казахстана менялось дважды, и Коммунистическая партия немедленно начала вмешиваться в кочевой образ жизни. Они пытались ограничить пути миграции, часто меняли порядок налогообложения и землеустройства и даже хотели изменить домашнюю культуру кочевников. Хотя время от времени предпринимались попытки защитить земельные права кочевников, эти действия противоречили общим экономическим целям Коммунистической партии и советской политике национального планирования. Границы и кочевники – понятия несовместимые.
– Зарубежные историки и ученые часто путают такие названия, как кыргызы, кара-кыргызы и казахи. Сталкивались ли вы с этой проблемой в ходе своего исследования? Вы написали об этом в своей книге, которую я прочитал.
– Историки не могут ничего сказать вне источников. Первоначально исследования по Казахстану основывались на трудах царского и советского периода, содержавших много обобщений и искажений. Со временем эти ошибки исправляются. Сейчас нет причин совершать такие ошибки, но историческая наука — это такая научная область, где всегда опираются на предыдущие научные работы, поэтому на исправление прошлых ошибок уходят годы. Это постоянная работа.
– В своей книге вы представляете казахские понятия в их изначальном виде: я говорю о таких вещах, как «джут», «бай», «манап», «аул». Трагедия прошлого века никогда не будет забыта. Случались ли в других странах крупные катастрофы, подобные Голодомору в казахских степях?
— По моему мнению, да. Однако масштабы и значение Голодомора в казахской степи недостаточно оценены в англоязычном мире. Тому есть разные причины. Однако в последнее время в этом направлении наблюдается большой прогресс, так что надежда есть.
– Как зарубежный историк, какова ваша оценка движения «Алаш»?
– Моя главная цель в этой книге – написать о «простых» кочевниках, у которых не было возможности участвовать в политических дискуссиях в имперский период. Я не являюсь экспертом, который досконально знает движение Алаш, но кое-какую информацию о нем я читал. Изучение «Алаша» очень важно для понимания раннего этапа советского периода, особенно для понимания его политической истории.
Керимсал Жубатканов