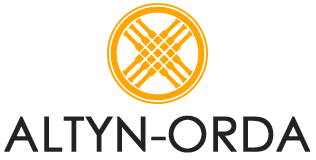Как День знаний символизирует тридцатилетнюю борьбу за лингвистическую справедливость в постколониальном Казахстане, рассказывает Altyn-orda.kz
Казахстан встречает новый учебный год с 7 тысячами школ и 3 миллионами учеников. Но за этими цифрами скрывается гораздо больше, чем просто начало учебного процесса. День знаний 2025 года — это символ не только образовательного прогресса, но и восстановления культурной и языковой идентичности, десятилетиями подменяемой и стираемой советской имперской машиной.
От русификации к реабилитации
Ровно 25 лет назад, когда независимость Казахстана еще оставалась хрупким политическим фактом, а не устоявшейся реальностью, казахский язык находился в маргинальном положении в собственной стране. В 1989 году в Алматы — крупнейшем городе страны — существовало всего 7 школ с казахским языком обучения. При этом более 90% школьников учились на русском, а число студентов, получавших высшее образование на казахском языке, не превышало 4%.
Это не было случайностью. Это была целенаправленная государственная политика, осуществляемая в течение десятилетий в рамках стратегии культурной ассимиляции. Советская модель не просто навязывала русский язык как средство межнационального общения — она последовательно вытесняла коренные языки, включая казахский, из сферы образования, управления и даже быта.
Цифры как зеркало истории
Сегодня, спустя три десятилетия после обретения независимости, картина изменилась. По официальным данным на 2025 год:
-
4 200 школ преподают исключительно на казахском языке;
-
2 600 — смешанные;
-
1 100 — на русском;
-
В стране также функционируют школы с преподаванием на английском, узбекском, таджикском и других языках.
Эти цифры представляют собой значительный сдвиг по сравнению с 1997 годом, когда лишь 23% школ республики вели обучение на казахском. Сегодня в некоторых областях казахский язык стал основным языком обучения для почти половины учащихся. В Алматы количество учеников, обучающихся на казахском, выросло в 12 раз — с 8 тысяч до 90 тысяч. Количество казахских школ в мегаполисе увеличилось в 9 раз.
Цена языкового пробуждения
Эти достижения не были достигнуты легко или сразу. Ветераны образования, такие как Тельман Мукушев, вспоминают тяжелые 90-е: «В городе не было ни одного казахского детского сада, ни школы. Мы открывали казахские классы в русских школах просто потому, что не было зданий». Это был не просто административный вызов — это была борьба с наследием, где казахский язык ассоциировался с провинциальностью, маргинальностью и отсталостью, а русский — с престижем и карьерными перспективами.
К тому же страна испытывала острый дефицит специалистов, владеющих казахским на академическом уровне. Многие педагоги были вынуждены покинуть профессию из-за нищенских зарплат: «Некоторые учителя выходили на базар и становились торговцами», — рассказывает Мукушев.
Лишь в 2019 году был принят Закон «О статусе учителя», установивший четкие нормы повышения заработной платы и социальной поддержки. Объем финансирования образования с 1993 по 2024 год вырос с 0,5 млн тенге до 128 млрд — это, безусловно, прогресс, но путь к нему был долгим и неровным.
Постколониальный контекст: язык как поле битвы
Вопрос языка в Казахстане — это не просто педагогический или культурный вопрос. Это вопрос идентичности и суверенитета. Российская империя, а затем и Советский Союз, методично стирали национальные особенности нерусских народов, замещая их универсальной русскоязычной идентичностью. Казахстан — один из самых ярких примеров этой политики.
Русский язык оставался языком власти, элиты и науки. Казахский же маргинализировался, его носителей заставляли стыдиться родной речи. Именно в этом контексте Закон РК «О языках» от 22 сентября 1989 года стал не просто декларацией, но актом сопротивления и первым шагом к деруссификации.
Медленный разворот: почему не все так быстро
Несмотря на впечатляющий рост числа казахских школ, русский язык остается доминирующим в городах, элите, СМИ и бизнесе. Многие родители по-прежнему предпочитают отправлять детей в русские или англоязычные школы, опасаясь, что казахский «не откроет двери» в будущее. Это отчасти объясняется тем, что государственные усилия по модернизации казахского языка — особенно в сфере цифровых технологий и науки — отставали от темпов роста самого населения.
Язык как инструмент нации
Тем не менее, сдвиг произошел. Принцип «один народ — один язык» снова становится актуальным — но теперь уже в обратном, антиимперском направлении. Казахстан строит модель культурного суверенитета, где государственный язык — не просто атрибут нации, но фундаментальный элемент самоидентификации.
И в этом смысле День знаний — с его миллионами детей, впервые переступающих порог школы — становится символом не только начала учебного года, но и продолжения исторической миссии по восстановлению казахской идентичности.
Казахстану предстоит еще немало шагов — от стандартизации терминологии до создания современной научной и культурной среды на казахском. Однако главное уже произошло: язык перестал быть пережитком. В стране, где еще недавно стыдились говорить на казахском в общественных местах, теперь открываются сотни новых школ на государственном языке.
Это не просто образовательная реформа. Это — языковая деколонизация.
И она идет, несмотря на сопротивление, инерцию и предрассудки.
Идет — потому что у нее есть дети, которые в этом году впервые пошли в школу.
На своем языке. В своей стране.